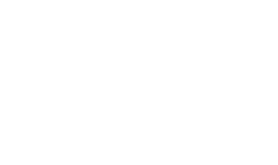Когда в последнее время начали обсуждаться варианты мирного урегулирования в Украине, довольно популярной точкой зрения и в Украине, и в России и на Западе стало то, что для завершения войны недостаточно будет лишь прекращения огня. А нужен полноценный мирный договор. Иначе прочного мира не будет, а будет лишь «заморозка».
При этом очень часто в качестве примера того, как должна завершиться война, приводится Вторая мировая и разгром нацистской Германии, День победы над которой празднуют в разных странах 8 или 9 мая.
Между тем никакого мирного договора ни 8, ни 9 мая 1945 года подписано не было. В этот день было заключено соглашение о прекращении огня на условиях полной капитуляции германской армии на всех фронтах.
Да, безусловно, это и было днем победы в войне, так как главный враг антигитлеровской коалиции был разгромлен и капитулировал, прекратив всякое сопротивление, а всю территорию Германии заняли войска победителей.
Однако с юридической точки зрения война в мае 1945 года не закончилась: страны антигитлеровской коалиции находились в формальном состоянии войны с Германией не один год или даже не одно десятилетие. "Урегулирование германского вопроса" также растянулось почти на полвека, несколько раз грозило перерасти в новую войну и по итогу точка была поставлена лишь 4 марта 1991 года, о чем мало кто вообще знает. Причем мирного договора никто так и не подписал.
Что предшествовало капитуляции нацистов, почему она чуть было не сорвалась, как затем союзники определяли судьбу Германии, почему Сталин выступал за ее объединение, из-за чего ФРГ долгое время отказывалась признавать польско-германскую границу и что именно произошло 4 марта 1991 года – читайте в исторической реконструкции "Страны".
Реймская интрига
То, что мир с Германией окажется делом не менее сложным, чем победа над ней, стало ясно еще до ее капитуляции. Отправная точка всех этих сложностей показана в известном сериале "Семнадцать мгновений весны", в котором советский разведчик Штирлиц работает над срывом сепаратного соглашения между немецким военным командованием в Италии и западными союзниками.
Эти переговоры действительно велись спецпредставителем Белого дома Аланом Даллесом с немецким командованием в Италии, и они противоречили договоренностям о безоговорочной капитуляции Германии, заключенным лидерами Британии, СССР и США в Тегеране в 1943-м и подтвержденным в Ялте в феврале 1945-го.
Другое дело, что сами переговоры были не таким уж преступлением со стороны американцев и британцев: каждая страна хочет сберечь жизни своих солдат, и если противник предлагает свою сдачу – то почему этим не воспользоваться? Вопрос состоял только в том, как совместить собственные желания с обязательствами перед партнером по коалиции.
Вашингтон нашел компромисс: соглашение о капитуляции было подписано 29 апреля 1945 года в присутствии советского представителя – генерал-майора Алексея Кисленко, который зафиксировал, что речь идет о прекращении боевых действий только на одном участке фронта – в Италии и Западной Австрии. С немецкой стороны решение было принято без ведома Берлина и стало в итоге одним из ключевых моментов, приведших Адольфа Гитлера к пониманию его краха и самоубийству, – так что вся эта "итальянская" история в конечном итоге сыграла положительную роль для ускорения окончания боевых действий.
Однако важно и другое: прецедент сепаратной капитуляции состоялся, и немцы – особенно после самоубийств Гитлера и Геббельса и перехода формальной власти в руки гросс-адмирала Карла Дёница – спешили им воспользоваться, поскольку больше никто не верил в чудо. Все оставшиеся немецкие руководители стремились к одному: сдаться англо-американцам, чтобы – как минимум – избежать мести советских войск или даже – как максимум – рассорить антигерманскую коалицию и сделать Берлин союзником Вашингтона и Лондона в борьбе с Москвой.
Второй прецедент состоялся на северо-западном участке фронта, который был зоной ответственности британского командования. Поскольку премьер Британии Уинстон Черчилль сам считал СССР новой главной угрозой, он дал добро на заведомое нарушение тегеранских договоренностей. 4 мая командующий ВМС Германии Ганс-Георг Фридебург подписал с британским фельдмаршалом Бернардом Лоу Монтгомери акт о капитуляции всех германских вооруженных сил в Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне и Северо-Западной Германии. Эта сдача фронта произошла уже при полном согласии и одобрении рейхспрезидента Дёница и привела к следующему шагу – широко известным переговорам в Реймсе.
Делегацию в этот французский город послал сам Дёниц, и ее снова возглавил командующий немецких ВМС Фридебург – с теми же самыми задачами, но только уже в отношении всего Западного фронта. Однако здесь все сложилось иначе.
В Реймсе находилась ставка главкома всех союзнических войск в Европе – генерала Дуайта Эйзенхауэра, и он имел четкие указания из Вашингтона: никаких сепаратных переговоров в нарушение договоренностей "Большой тройки". Как мы уже писали, Штаты – несмотря на смерть президента Франклина Рузвельта и приход к власти Гарри Трумэна – все еще считали своим главным фронтом японский и все еще стремились к тому, чтобы СССР вступил в эту войну. Чем и обуславливались все шаги Белого дома и – соответственно – Эйзенхауэра, который сразу дал понять немцам, что соглашений без одобрения Москвы не будет.
6 мая – на следующий день после прибытия Фридебурга в Реймс – туда же пригласили советского представителя – генерал-майора Ивана Суслопарова, и в его присутствии немецкой делегации объявили, что капитуляция возможна лишь одновременно на всех фронтах, включая восточный.
Фридебург сделал запрос об этих условиях Дёницу, но рейхспрезидент высказался против такого сценария. Он срочно отправил в Реймс начальника штаба оперативного руководства Альфреда Йодля – категорического противника полной капитуляции. Дёниц надеялся, что его личный посланник сможет убедить Эйзенхауэра, однако на всякий случай выдал ему доверенность для подписания соглашения на условиях союзников.
Вечером того же 6 мая Йодль прибыл в Реймс и попытался уговорить представителей Эйзенхауэра снять требования капитуляции немцев перед всеми союзниками.
Он приводил разные аргументы. Например, заявлял, что капитуляция немцев в том числе и перед Красной армией будет означать передачу советскому союзу части немецких вооружений. "Соответствует ли это интересам Запада?", - ставил вопрос Йодль.
Позицию спецпредставителя Дёница передали Эйхенхауэру, но тот был непреклонен: "Если они не прекратят искать отговорки и тянуть время, я немедленно закрою весь фронт союзников и силой остановлю поток беженцев через расположение наших войск. Я не потерплю никаких дальнейших проволочек".
Йодлю пришлось согласиться: он сделал запрос Дёниц и – хоть и со скрипом – получил от него добро на подписание акта о всеобщей капитуляции. Суслопаров, узнав об этом, срочно запросил Москву, чтобы выяснить, как действовать в этой ситуации. Однако ответ Сталина (с отказом от такого соглашения) пришел слишком поздно: 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени документ был подписан. Но в него – по договоренности Эйзенхауэра и Суслопарова – внесли пункт о том, что "данный протокол о военной капитуляции не исключает в дальнейшем подписания иного, более совершенного акта о капитуляции Германии, если о том заявит какое-либо союзное правительство".
Согласно этому пункту и состоялось то самое официальное подписание в Карлхорсте в ночь с 8 на 9 мая, которое мы и празднуем как День Победы. Как видим, несмотря на козни немцев, союзники эту проблему решили без конфликтов – если не считать, конечно, того самого спора насчет "восьмого или девятого". Однако на этом сложности мира с Германией только начинались.
.jpg)
7 мая 1945. Подписание капитуляции в Реймсе
Мир для всех. Кроме Германии
Хотя война с Германией и ее союзниками закончилась в 1945-м, в тот год ни одного мирного договора подписано не было. И в 1946-м тоже. Лишь 10 февраля 1947 года состоялось подписание сразу нескольких соглашений о мире с бывшими союзниками Гитлера – с Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. С еще двумя немецкими союзниками – Хорватией и Словакией – ничего подписывать не понадобилось, поскольку эти государства вновь вошли в состав Югославии и Чехословакии соответственно.
Однако в перечне государств, с которыми страны антигитлеровской коалиции подписали мир, отсутствовала Германия. И у этого были серьезные причины. В перечисленных пяти странах к 1947-му прошли выборы, появилась власть, которая могла подписывать соглашения от имени своих народов. У Германии такой власти все еще не было. Как, собственно, и не было самой Германии.
После победы в 1945-м союзники отправили рейхспрезидента Дёница за решетку и судили его на Нюрнбергском трибунале, а саму страну поделили на четыре зоны оккупации – американскую, британскую, советскую и французскую, – которая должна была продолжаться до того момента, пока победители не решат, что делать с Германией (точно так же на четыре зоны разделили Берлин).
И тут начались разночтения. Москва и Лондон – каждая столица по своим причинам – выступали за сохранение единой Германии с лишением ее военно-промышленного потенциала, в то время как Вашингтон и – особенно – Париж выступали за раздел проигравшей страны на несколько небольших государств.
Эти споры шли весь 1945-й и почти весь 1946 год, так что к февралю 1947-го подписывать мир все еще было не с кем. А параллельно начали происходить события, которые и вовсе сделали подписание такого договора невозможным.
Первый шаг сделали американцы и британцы. 2 декабря 1946 года они подписали соглашение об объединении своих зон оккупаций, которое вступило в силу 22 июля 1947 года. Это стало возможным после того, как Трумэн под влиянием Черчилля сменил позицию и стал сторонником включения Германии в новый антисоветский лагерь. Франция, которая боялась возрождения немецкого государства, продолжала выступать за раздел соседней страны на мелкие государства, а потому выступила против и свою зону оккупации (западные и юго-западные земли Германии) в создаваемое объединение отдавать не стала.
.png)
Так родилось квазигосударство, которое носило неофициальное название "Бизония" (Bi Zone). Политическая власть в нем все еще принадлежала оккупационной администрации, но экономическая частично передавалась создаваемым немецким структурам. И это привело к следующему шагу: весной 1948 года в Бизонии (и французской зоне) ввели собственную валюту, которая заменила марку, ходившую во всех четырех зонах оккупации.
Денежную реформу готовили тайно, с конца 1947 года, и провели быстро, ограничив обмен старых денег на новые лишь мелкими суммами и по курсу 10 прежних марок за одну новую. В результате на руках у населения Бизонии оказалась огромная масса ненужных денег, и оно хлынуло сбывать их в советскую зону оккупации, скупая все подряд. Магазины восточных регионов опустели за считанные дни, и советская администрация решила срочно закрывать "границы" – как с Бизонией, так и с тремя союзническими зонами Берлина. Для последних это означало полную блокаду – ту самую, которая вошла в историю как точка окончательного разрыва между недавними союзниками по антигитлеровской коалиции.
После этого какие-либо совместные решения по Германии, включая ее объединение и мирный договор с ней, стали невозможны.
8 апреля 1949 года Франция, которая увязла во вьетнамской войне и потому ослабила свои позиции в Европе, отдала свою зону оккупации, и Бизония превратилась в Тризонию. А еще спустя полтора месяца, 23 мая, Тризония официально стала Федеративной Республикой Германией. Наконец, 7 октября того же года Москва оформила свою зону в Германскую Демократическую Республику.
Появилось сразу два государства с немецкой властью, но ни одно из них не признавалось всеми как правопреемник прежней Германии. Так что мирный договор по-прежнему подписывать было не с кем.
Сталинская бомба
Все понимали, что разделение Германии – явление временное. И желание ее объединить декларировали практически все, но на практике оказывалось, что разделенная страна более выгодна для большинства игроков как в мире, так и в самих немецких государствах.
Страны Запада не хотели объединения, поскольку планировали привлечь ФРГ в образованную в 1949-м НАТО (а Франция еще и боялась, что объединенная Германия снова станет доминировать в Европе). А в самих ФРГ и ГДР их лидеры – канцлер западных немцев Конрад Аденауэр и партийный вождь Восточной Германии Вальтер Ульбрихт – выступали за сохранение статус кво, потому что оно означало сохранение их власти. Конечно, и в столице ФРГ Бонне, и в столице ГДР Берлине имелись те, кто ставил вопрос единства выше власти, но они-то как раз большой властью не обладали (и, возможно, именно поэтому не боялись ее потерять).
Единственным серьезным исключением из длинного списка противников единой Германии оказался… Иосиф Сталин. Германские историки и сегодня единогласно сходятся во мнении, что ГДР была "нежеланным ребенком" советского вождя, которого мало интересовал пропагандистский эффект от существования "первого немецкого социалистического государства", которое требовало немалых финансовых вливаний. Сталин хотел объединить Германию как раз для того, чтобы разрушить планы по созданию единого западного блока с участием ФРГ.
В начале 1950-х процесс вовлечения Западной Германии в НАТО затормозился. В Корее в это время началась война, в которую активно втянулись США и СССР, и американский президент Гарри Трумэн не хотел накалять обстановку еще и в Европе, опасаясь, что вступление Бонна в Североатлантический альянс станет той последней каплей, которая приведет к прямому конфликту Вашингтона и Москвы.
Но тут начались те самые процессы, которые мы наблюдаем и сегодня. В последние годы идет немало разговоров о том, что европейцы должны создать единую армию; однако в них нет ничего нового: еще в 1952-м, убедившись, что для Штатов приоритетом является Дальний Восток, лидеры Западной Европы предложили создать Европейское оборонительное сообщество, которое фактически объединяло бы армии Франции, ФРГ, стран Бенилюкса и Италии. Инициатором выступил Париж, и сама инициатива получила название "плана Плевена" по имени тогдашнего французского премьера.
Этот проект обеспокоил Сталина, и тот решил действовать. 10 марта 1952 года замминистра иностранных дел СССР Андрей Громыко вручил послам США, Великобритании и Франции ноту, в которой предлагалось ускорить выработку мирного договора с Германией.
.png)
В документе, который западные СМИ тут же назвали "нотой Сталина", объявлялось, что Советский Союз готов начать процесс воссоединения двух немецких государств в единую нейтральную страну с полной экономической независимостью и собственными вооруженными силами.
Расчет советского вождя был точен: если ФРГ обречена находиться на американской орбите, то нейтральная Германия начнет строить собственную политику, которая однозначно войдет в противоречие с интересами Парижа, а там, быть может и с США.
"Нота Сталина" имела эффект разорвавшейся бомбы не только в упомянутых столицах, но и в Берлине с Бонном. Вожди ГДР, естественно, были против такого плана, но не могли спорить с Москвой, поэтому просто промолчали. Аденауэр был против и его сторонники проводили мысль, что идея Сталина - это "хитрый план", чтоб оторвать Германию от Запада и сохранить над ней советское влияние.
Но в Бонне были и сторонники единой Германии, которые пошли в наступление. 1 марта на заседании правительства министр по общегерманским вопросам Якоб Кайзер, представлявший левое крыло партии Аденауэра (ХДС), потребовал начать переговоры с СССР при условии создать нейтральную Германию и национальную армию. То есть в позиции Кайзера не имелось никаких противоречий с позицией Москвы.
Произошел скандал, но большинство правительства поддержало канцлера и постановило запретить министрам комментировать вопросы, затронутые в "ноте Сталина". Однако Кайзер не стал молчать: 2 марта он в речи, транслировавшейся по радио, от лица правительства назвал предложение Москвы важнейшим политическим событием последнего времени и призвал начать переговоры с СССР.
Дебаты по этому вопросу перенеслись в Бундестаг, и Кремль, поняв, что нанес удар в правильном направлении, решил углубить раскол в западногерманском руководстве. 9 апреля министр иностранных дел СССР Андрей Вышинский передал западным послам вторую ноту, в которой конкретизировал все пункты первого документа.
Москва предлагала провести свободные выборы по всей Германии под контролем международной комиссии из представителей Советского Союза, США, Британии и Франции, подписание мирного договора с единым немецким государством, вывод всех иностранных войск с немецкой территории через год после его подписания и вступление нейтральной Германии в ООН.
Для обычных немцев это предложение выглядело очень привлекательно и публично отказаться от него означало политическое самоубийство для любого немецкого политика (да и западным, кроме французов, сложно было что-то возражать). Поэтому Аденауэр решил промолчать – и молчал он до 27 мая, когда в Бонне представители шести европейских государств подписали договор о создании Единого оборонительного сообщества (ЕОС).
Ключевым пунктом соглашения записали, что "ФРГ обязуется не заключать соглашений, противоречащих правам трёх западных держав-победительниц". Это и был ответ на две "ноты Сталина", означавший фактический отказ.
.jpg)
Конрад Аденауэр – первый канцлер ФРГ
От Берии до Горбачёва
В следующие пару лет мир претерпел громадные изменения. 5 марта 1953 года умер Сталин, в Кремле началась борьба за власть, и в этой борьбе среди прочих возник немецкий вопрос. Один из сталинских преемников – Лаврентий Берия – снова начал переговоры с Западом о единой нейтральной Германии и мирном договоре с ней.
Однако в июне 1953 года в ГДР начались массовые протесты против политики руководства ГДР, которые были подавлены советскими войсками. Вскоре после этого Берия был арестован. И то, что он "упустил контроль за ситуацией в Германии" стало одним из пунктов обвинений в его адрес со стороны Никиты Хрущева.
Соответственно и "бериевская" инициатива по объединению Германии в новых условиях стала табу для кремлевских вождей.
Тем временем в июле 1953 года в Корее подписали перемирие, и оно развязало Вашингтону руки для более активных действий в Европе. В том числе – для торпедирования соглашения о ЕОС, которое оставляло Штаты на обочине.
Однако, казалось, проекту не может не помешать ничто. Парламенты Германии, Италии, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга уже ратифицировали соглашение, и все ждали 30 августа 1954 года, чтобы после голосования во французском Национальном собрании объявить общеевропейский праздник. Само голосование считалось формальностью, поскольку именно Париж выступал инициатором ЕОС.
Но произошла катастрофа: за ратификацию соглашения выступили 264 депутата, против – 319. Проект единой европейской армии похоронили, и вместо этого активизировался вопрос о вступлении ФРГ в НАТО, против которого началось массовое движение по всей Западной Европе.
Москва снова поняла, что надо действовать. Хрущёв, как сказано выше, уже не мог предлагать объединение Германии, но по его инициативе советский МИД 15 января 1955 года выступил с заявлением, в котором предложил установить дипломатические отношения с Бонном (с Берлином они, естественно, у Москвы уже имелись). И в подтверждение этой инициативы президиум Верховного Совета СССР 25 января издал указ "О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией". В указе объяснялось его принятие тем, что спустя десять лет после военных действий Германия находится в "состоянии раскола и не имеет мирного договора".
Таким образом, именно 25 января 1955 года – без мирного соглашения – Советский Союз формально прекратил свою войну с Германией.
У остальных бывших союзников по коалиции ситуация с урегулированием отношений с Германией была еще сложнее. В отличие от СССР, который с 1955 года имел дипотношения с обеими Германиями, Вашингтон не признавал ГДР до 1974 года, но и после этого ничего не изменил в своем юридическом статусе в отношении несуществующей единой Германии.
Точка в "немецком вопросе" была поставлена лишь 12 сентября 1990 года – стараниями "отца Перестройки" Михаила Горбачёва. Московский договор об окончательном урегулировании в отношении Германии (или договор "2+4" – назван по количеству подписантов: ГДР, ФРГ плюс СССР, США, Британия и Франция), который давал добро на объединение страны, фактически заменил собой так и не появившееся на свет мирное соглашение.
2 октября 1990 года в Нью-Йорке представители США, СССР, Франции и Британии выступили с заявлением о приостановлении своих прав и обязанностей в отношении Берлина и Германии в целом с момента объединения ФРГ и ГДР до вступления в силу договора "2+4".
Он вступил в силу после ратификации парламентами всех стран-подписантов – последним это сделал Верховный Совет СССР 4 марта 1991 года. И формально только в этот день Германия перестала находиться в состоянии войны.
Что, впрочем, не означает формального окончания Второй мировой войны в целом. Как известно, СССР и Япония так и не подписали мирного соглашения из-за спора о Курильских островах, который "по наследству" передался Российской Федерации. Но это уже другая история.
.jpg)
Исторические подписи под соглашением "2+4". Подпись от СССР – Эдуарда Шеварднадзе
Как признавались новые немецкие границы
Отдельным – и очень сложным вопросом – урегулирования «немецкой проблемы» были границы. По итогам Второй мировой союзники договорились установить восточную границу Германии и – соответственно – западную границу Польши по рекам Одер и Нейсе, из-за чего в состав польского государства вошли бывшие немецкие территории, включавшие такие города как Бреслау (Вроцлав) и Позен (Познань).
Естественно, это не нравилось никому из немцев, но в ГДР вынуждены были молчать, а вот Западная Германия во главе с канцлером Конрадом Аденауэром заявила о невозможности урегулирования при таких границах. Это была одна из формальных причин, по которым Бонн не дал положительного ответа на «ноту Сталина», поскольку Москва закладывала в свой проект признание сложившейся географической конфигурации.
В то же время западные союзники – Вашингтон и Лондон – достаточно спокойно относились к немецким претензиям, поскольку они касались лишь вошедшей в социалистический блок Польши.
В результате все правление Аденауэра (1949-63) и сменивших его однопартийцев Людвига Эрхарда (1963-66) и Курта Кизингера (1966-69) ситуация не двигалась с мертвой точки.
Перемены начались лишь после того, как в 1969 году к власти пришли социал-демократы, настроенные более лояльно по отношению к социалистическому блоку.
"Новая восточная политика" канцлера Вилли Брандта включала в себя одновременно признание ГДР и восточной границы ФРГ. 12 августа 1970 года он вместе с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным подписал в Москве договор о признании послевоенных границ в Европе.
«Европа не заканчивается на Эльбе или на восточной границе Польши. Россия неразрывно вплетена в европейскую историю не только как противник и опасность, но и как партнер – исторически, политически, культурно и экономически», – заявил Брандт в своей речи по радио, произнесенной после подписания этого соглашения.
Естественно, у «новой восточной политики» социал-демократов имелись свои противники. В частности, ее жестко критиковали христианские демократы.
Однако десятилетие существования в новой реальности изменило и их подходы: когда в 1982-м ХДС вернулась к власти, ее канцлер Гельмут Коль уже не ставил вопрос о пересмотре границ, поскольку конфронтация с соцблоком означала отказ от советского газа, ставшего к тому времени мощным рычагом развития экономики ФРГ.
Но дело не только в экономических стимулах: сегодня уже можно говорить о том, что именно благодаря признанию восточных границ, в 1989-90 годах стал возможен процесс объединения Германии – без этого никто не стал бы с немцами даже разговаривать.
В результате, по иронии судьбы, процессы, запущенные социал-демократами вопреки позиции ХДС, дали христианским демократам возможность реализовать их объединительные планы – поскольку провел их в жизнь именно Гельмут Коль.